Прихожу в старый дом, чтобы встретиться с прошлым

Накануне памятных январских дней в редакцию поступило множество воспоминаний блокадников, их писем, дневников. Предлагаем вашему вниманию воспоминания жительницы блокадного Ленинграда Лидии Михайловны Горюнковой.
Я, Горюнкова Лидия Михайловна, 1928 года рождения, урожденная Хохлова. До войны проживала в Ленинграде на Разъезжей улице, дом 3, квартира 18. Мы занимали 4-комнатную квартиру, был даже телефон, что было редкостью в то время. Две комнаты занимали папа, мама, я и бабушка – папина мама Анна Ивановна Хохлова. В двух других комнатах жила папина сестра тетя Леля с мужем Порфирием Ивановичем Горбуновым и двумя детьми – сыном 16–17 лет и дочерью 7–8 лет.
Мама работала машинисткой в Райсовете Фрунзенского района. Сохранилась фотография, на которой она сидит за пишущей машинкой. Папа работал в порту, но подробностей не знаю. Наше хозяйство вела бабушка. Она была верующей и часто меня водила во Владимирскую церковь на причастие. Из-за этого у нее с папой были конфликты. Еще бабушка верила в братца Чурикова, который проповедовал трезвый образ жизни и исцелял от пьянства. У него до революции в Вырице была коммуна. Вырица считалась святой землей.

Лида с родителями
На лето мы никогда не оставались в городе. В 1940-м году родители снимали дачу в Елизаветино под Гатчиной. Место хорошее, рядом лес… Жили мы вместе с папиными друзьями, художником Чесноковым Павлом Васильевичем, его женой Антониной Львовной и детьми. Так было и летом 1941 года. Помнится, день 22 июня был жаркий и солнечный. Мы ходили в лес за грибами. Идем обратно, и что это случилось? Все люди идут на станцию. Радио в домах не было. Все взволнованы. Выступает Молотов. Началась война. Бомбят наши города. Уничтожают прямо на аэродромах наши самолеты. Германия напала на Советский Союз. Как же так? Только недавно был заключен договор о ненападении. Все возмущены.
Папа в этот же день уехал домой. Мы остались на даче. Вскоре папа вернулся и велел нам срочно собираться домой. Бабушка уехала раньше. Стали появляться немецкие самолеты и над Елизаветино. Можно сказать, что мы с последним поездом уехали в город. С вокзала нас выпустили только после шести часов. Город показался мрачным. Военные несли аэростаты воздушного заграждения. Стекла в домах перекрещены крест-накрест бумагой. Добрались до дома. Бабушки уже не было. Она с дочерью и внуками уехала в почитаемую ею Вырицу. Уже после войны я узнала, что с ними случилось. Бабушка была расстреляна в комендантский час. Тетя Леля с ребятами хотела перебраться в Вышний Волочек, где жили родные мужа, но добрались они только до Луги. Здесь тетя Леля умерла. Брата Ларика как рабочую силу отправили в Германию. Судьба сестры Марины осталась неизвестной. А я их считала живыми.
Папа с мамой решили, что останутся в городе, хотя из нашего дома почти все эвакуировались. Папа и мама продолжали работать, только я оказалась без дела. Школа закрылась, в ней был организован госпиталь.
Начались ночные налеты, а днем обстрелы. Вести были неутешительные. Папа перестал ходить на работу. Навигация прекратилась, и в порту нечего было делать. Однажды был очень сильный налет. Бросали зажигательные бомбы на склады с продуктами. И сразу срезали норму выдачи продуктов. Кроме хлеба почти ничего не давали. У нас был запас нежареного кофе, и мы его ели. Еще у папы были столярные плитки, мама их размачивала и варила. Получалось нечто вроде студня. Но и это вскоре кончилось. Папу в армию не призвали по возрасту, и было видно, как он с каждым днем мрачнеет и худеет. Стал реже выходить на улицу. Стало известно, что были заняты Пушкин, Гатчина. Значит, заняли и Вырицу. Папа пришел домой и встал на колени перед иконой, горько плакал, просил прощения у матушки, молил бога о долгой жизни для них.
Папа все больше лежал. Однажды ему принесли повестку в военкомат, но он был так слаб, что не смог пойти.
Как-то к нам пришел наш родственник. У него семья была в деревне. Сам он служил в интендантских войсках и жил в госпитале на Суворовском проспекте. Этот госпиталь и сейчас существует. Он нам принес три картофелины. Папа ему отдал золотые часы с цепочкой. Он обещал вернуть, как только кончится война. Больше он не приходил.
Я от своего хлеба отрезала тоненькие кусочки и сушила на печурке. Потом прятала их далеко, чтобы не было соблазна съесть. Так мы отметили мой день рожденья 28 января: чашка горячего кипятку и по кусочку сухарика. Мне исполнилось четырнадцать лет.
Папе с каждым днем становилось все хуже. Мы с мамой как-то еще ходили. Ходили менять на хлеб вещи на Владимировскую площадь. Но люди хотели только хлеба и не смотрели на вещи. Однажды нам повезло: военный взял у нас свитер и дал хлеба, не помню, сколько. Мама хлеб спрятала под пальто, и мы быстро ушли.
В квартире было очень холодно, от печурки был только один лишь дым, тепла не было, хотя мы сожгли буфет из кухни.
Люди старались жить вместе, так было теплее. К нам попросились жить две сестры Порфирия Ивановича. Они жили в деревянном доме, и дом разобрали на дрова. У одной сестры – младшей – был двухмесячный ребенок. Папа разрешил им поселиться у нас. Сначала ребенок громко плакал, потом стал только пищать, а потом и вовсе замолк. Умер. Ребенка завернули в одеяло и положили в кухне. Подходило время получать карточки. На ребенка, уже мертвого, получила карточки его мать. Только после этого его отнесли в конюшни, куда свозили умерших. Старшая сестра умерла раньше.
Поселилась у нас и еще одна родственница – Анна Петровна. Анна Петровна жила рядом с нами. Она осталась одна. Дочку отправила в эвакуацию со школой, муж на фронте. Она попросилась к нам. Пришла с узелком. Сказала, что в нем у нее самое ценное. Как-то раз Анна Петровна ушла и не вернулась. Я в то время много ходила по городу, хотя раньше меня никогда не пускали одну. На улицах часто встречались покойники, замерзшие в снегу. Были специальные бригады, которые собирали умерших. И вот я иду по Владимировскому проспекту. Вижу, стоит машина, куда, как дрова, складывают умерших. Смотрю, и Анна Петровна среди них. Дома рассказала об этом маме. Значит, умерла в снегу на улице. Узелок ее мы не трогали и не смотрели, что было в нем.
В блокадном Ленинграде пропал без вести мой двоюродный брат Юрик. У мамы была сестра, тетя Шура. У нее было двое детей – Юрик, 14 лет, и Галя, 9 лет. Юрик учился в ремесленном училище при металлическом заводе, что рядом с Финляндским вокзалом. На этом же заводе он и работал. Жили они на улице Маяковского, дом 20. Юрик пешком ходил на завод. Чтобы сократить дорогу, шел через Неву. Однажды он ушел и не вернулся. Через два-три дня пришли с завода узнать, почему он не приходит за карточками. Тетя Шура, сама еле живая, через Неву отправилась на завод. Там ребята сказали ей, что ничего о нем не знают. Кто-то вспомнил, что как-то Юрик говорил, что хочет пойти на фронт. Но с тех пор так его никто больше и не видел. Юрик пропал. Может, попал под обстрел, а может, обессиленный, упал и замерз в снегу. Галя и тетя Шура остались живы, пережив голод и блокаду.
Наступил день, когда папа уже не мог подняться с постели. У мамы от голода помешалось в голове. Она меня уговаривала пойти на улицу, когда будет обстрел, чтобы вместе умереть. В убежище мы не ходили. Однажды мы с мамой сидели на подоконнике на втором этаже. Гул немецких самолетов отличался от наших. Слышим, летит немецкий самолет. Поднялся такой свист! Нас с мамой волной сбило вниз. Все затряслось. Но бомба не разорвалась, с грохотом упала на углу улицы Правды и Разъезжей. Она была огромной силы, и если бы разорвалась, пострадали бы все близлежащие дома.
Однажды меня не было дома. Я, как обычно, бродила по улицам. А в это время мама выбросилась из окна. Мы жили на третьем этаже. Но во дворе было много снега, и она, упала, как на перину. Потом мне помогли ее довести до квартиры и уложили в постель. Вскоре умер папа. Это было 2 марта 1942 года. Мама после падения больше не вставала и умерла 22 марта. Когда умер папа, я пошла к маминой сестре. Мы с ней папу завернули в простыню, привязали к саночкам и повезли в бывшие конюшни, что на углу Звенигородской и Марата, куда свозили умерших. Так же поступили и с мамой. Я осталась одна. Стала жить у маминой сестры. Там жила и мамина мама бабушка Ксения.
Подходила весна. Были организованы пункты, где давали хвойную воду в качестве витаминов. С тетушкой мы еще ходили в Парголово за крапивой, пекли лепешки. Я иногда ходила в свою квартиру на Разъезжую. И вот прихожу однажды, а квартиру заняли люди из разбитых домов. Так я осталась с ленинградской пропиской, но без площади. Отсутствие своего угла, своей жилплощади сильно отразилось на моей дальнейшей судьбе.
Страшная вещь – голод. У меня сейчас не поднимается рука выбросить хлеб.
После войны из нашего семейства из восьми человек, живших в Ленинграде на улице Разъезжей, в живых остались я и мой двоюродный брат Ларик, что был отправлен в Германию. Он работал у одного немецкого фермера. Фермер оказался порядочным человеком. После войны брат попал на обмен пленными, жил на Украине, служил в армии, там женился. Приезжал в Ленинград, я с ним виделась.
Прошло много лет с той страшной зимы 1941–42 годов в осажденном Ленинграде. Мой дом на Разъезжей внешне мало изменился с той поры. Однако большие перемены в нашей сегодняшней жизни коснулись и его. Уже невозможно войти во двор – ворота в арке закрыты на кодовый замок… Говорят, что стены сохраняют тепло душ людей, которым они дают приют. А иначе, почему так тянет меня к этому дому, к этим стенам? И я часто прихожу сюда, чтобы встретиться со своим прошлым, со своими
родными.
«Царскосельская газета» № 5,
07.02.2019 г.

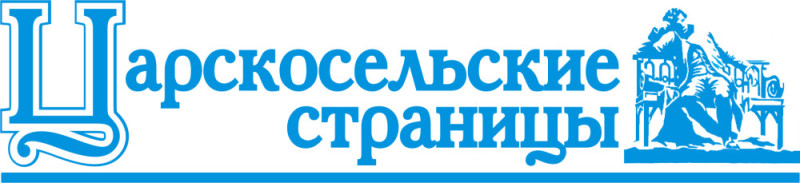







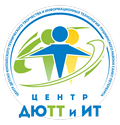
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.