Как мы выжили. Моя война, моя блокада…

Навстречу 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Продолжаем публикацию фрагментов блокадных воспоминаний профессора ВИЗРа Ирмы Викторовны Исси.
Продолжение. Начало в №№ 14 ,15
Начало блокады и самая страшная зима (8 сентября 1941 – апрель 1942)
Сентябрь-октябрь
Регулярные артиллерийские обстрелы города начались с 4 сентября. Первый блокадный день Ленинграда – 8 сентября – был отмечен первым массированным налетом немецких самолетов, сбросивших на город более 12 тысяч зажигалок. На улицах из квадратных черных раструбов радио-трансляционных установок мужской голос многократно и как-то отрешенно, без эмоций, повторял: «Воздушная тревога, воздушная тревога». Когда мужской голос умолкал, включался стук метронома. При воздушных тревогах и обстрелах метроном стучал значительно быстрее, чем в остальное время, он «волновался». После объявления об отмене воздушной тревоги удары становились редкими, метроном успокаивался, было даже похоже, что он задремывал. За эту его особенность метроном называли сердцем блокадного Ленинграда.
Объявление тревоги по радио дополнялось воем сирен. На каждом участке дежурные выносили сирену на улицу, крутили ее ручку, и она начинала издавать противные громкие звуки, похожие на тоскливый вой крупного голодного хищника. Возникал незабываемый звуковой фон военного времени, ты одновременно слышал вой нескольких сирен, стрельбу зениток, перемещавшуюся вместе с летящими немецкими самолетами, звук моторов бомбардировщиков и истребителей, шаги одиноких прохожих на опустевших улицах, своего рода это была симфония войны.
После объявления воздушной тревоги мама и другие неработающие женщины, члены группы самозащиты, поднимались по лестницам дежурить на чердаках… В это же время одна-две женщины присматривали за двором, посреди которого стояло несколько поленниц, так как поджечь дрова зажигалке было легче легкого… Прочее население дома, в основном старики и дети, должно было спускаться в бомбоубежище и не покидать его до отбоя… Очень быстро женщины научились успешно справляться с зажигалками, закапывая их в больших кучах песка. За все время блокады в нашем доме не возникло ни одного серьезного пожара.
В первую же бомбежку города многие здания были разрушены. Когда стемнело, из окон нашей квартиры, смотревших в сторону залива, было видно, что где-то далеко за Невой, за Летним садом на черных низких тучах мечутся багровые сполохи. Утром небо в том направлении было затянуто черными плотными клубами дыма, и кто-то нам сказал, что это горят Бадаевские склады. В те далекие времена именно этим пожаром в дальнейшем объяснялись нехватка и затем полное отсутствие продовольствия в блокадном городе. Почти сразу после пожара на Бадаевских складах, уже 12 сентября, опять была сокращена норма хлеба. И только спустя много лет после окончания войны мы узнали, что кроме запасов сахара (прекрасного горючего материала) на складах никаких продовольственных продуктов не было. Имевшиеся там запасы зерна в весенние месяцы сорок первого года были проданы Германии, а новое зерно осталось на полях сражений…
С первых блокадных дней сразу же резко изменилась обстановка в городе. Был введен комендантский час (с 11 вечера до пяти часов утра), когда по пустынным ночным улицам могли ходить только военные патрули.
С учетом возможности прорыва фронта и появления отдельных немецких частей в городе поперек многих улиц началось срочное строительство баррикад… Высота баррикад была близка двум метрам, проходы на другую сторону в них отсутствовали, поэтому для преодоления этих сооружений гражданским населением с двух сторон к баррикаде крепились сходни из нескольких досок с набитыми примерно через полметра поперечинами из брусков (чтобы не скользили ноги).
В первую блокадную зиму, когда перестал работать водопровод, все жители города вынуждены были ходить за водой к ближайшим рекам, речкам и каналам. Вскоре баррикады превратились для всех нас в трудно одолеваемые препятствия. Воду в то время носили обычно в 3-5-литровых бидонах, так как ведро воды для голодающего человека стало уже неподъемным. Головокружение от голода часто сопровождалось потерей равновесия, и люди, поднимающиеся по сходням, выплескивали воду на доски. В результате очень скоро сходни превратились в ледяные горки – человек, иногда поднявшийся почти до самого верха, вдруг поскальзывался и съезжал вниз, и если кто-то уже начал подниматься вслед за ним, его судьба становилась такой же. После этого упавшим приходилось идти за водой вновь. Самое удивительное заключалось в том, что все это происходило при полном молчании всех участников происшествия – ни тебе ругани, ни тебе стенаний.
В большинстве своем в городе остались коренные жители, для которых мат всегда был языком изгоев, и говорить на нем считалось унизительным… Он вообще не звучал на ленинградских улицах ни до войны, ни во время войны. Коренные жители нашего города обычно осуждающе говорили: «Ругается как извозчик», то есть матом. А извозом в зимнее время занималось в городе самое бедное крестьянство, в разговорном языке которого мат занимал значительное место…
С первого октября в очередной раз резко сократили нормы выдачи продовольствия: рабочие стали получать по 400, а иждивенцы по 200 граммов хлеба, начинался голод. В то время мы естественно связывали голод с пожаром на Бадаевских складах. Первой начала серьезно болеть бабушка… С конца октября мы были вынуждены перейти на отопление комнат в квартире «буржуйками», похожими на отопительные агрегаты в старых железнодорожных вагонах… Их в отличие от плиты, круглых комнатных печей и камина можно было топить и бумагой. Поэтому, если надо было что-нибудь только слегка подогреть, мы ею и пользовались. Когда мы начали сжигать книги из нашей домашней библиотеки, мама, подумав немного, сказала: «Кого-кого, а уж классиков после войны обязательно будут переиздавать, поэтому классическую литературу мы сожжем в первую очередь»… Собрания сочинений Пушкина, Толстого, Чехова, Лескова, Горького и многих других дали нам возможность в трудное блокадное время пить горячую воду утром и вечером и подогревать хоть какую-то еду днем.
От папы по-прежнему не было никаких известий, мы не знали даже, жив ли он, и если жив – то где теперь находится. На нашем 175 почтовом отделении не осталось ни одного почтальона… Мама, выбирая свободные между дежурствами и обстрелами минуты, почти каждый день приходила на почту и с разрешения начальника почтового отделения перебирала письма, в надежде найти папино послание… Однажды, уже в ноябре, она нашла (наконец-то!) и письмо от папы. Он писал, что находится в Кеми (Карелия), где относительно тихо, и хотя финны предпринимают вылазки почти каждый день, их группы малочисленны. В основном «работают» снайперы, отстреливающие командный состав. Он очень беспокоился о нас, так как знал и о бомбежках, и об обстрелах, и о проблемах с продовольствием…
Всю блокаду не реже, чем раз в неделю, мы с мамой навещали маленькую бабушку и деда. В результате бомбежек, обстрелов, отправки сыновей на фронт и вызванного этим стресса дедушка внезапно ослеп и стал совсем беспомощным. Осознание своего бессилия для деда было невыносимым, и только бабушка, рассказывая ему сказки о возможностях медицины, смогла его немного успокоить и вывести из стрессового состояния… У бабушки, находившейся теперь в полной растерянности и непрерывной тревоге и за сыновей, и за мужа, не осталось никаких помощников, кроме нас…
Ноябрь
Мама целыми днями отсутствовала дома. Если не было обстрелов, дежурила в конторе домохозяйства у телефона, во время обстрела нашего микрорайона вместе с другими членами группы самозащиты на носилках выносила с улицы раненых, перевязывала их в конторе. Когда она вечером приходила домой, рукава и полы ватника часто были в кровавых пятнах, что со временем стало представлять большую проблему – не было воды, чтобы их отстирать, не было тепла, чтобы ватник высушить…
Уже в середине ноября выпал снег и сразу установились морозы сперва до двадцати, а затем и за двадцать градусов. Привычных для Ленинграда зимних потеплений в начале первых чисел декабря не было и в помине… Центральное отопление в домах не работало. Для печного отопления большинство людей, не уехавших из города, не успело заготовить необходимое количество дров. Электричество и газ были отключены… Несмотря на грамотную конструкцию буржуйки (внутри она была выложена кирпичами, долго хранившими тепло), она была слишком маленькой для того, чтобы при сильных морозах существенно поднять и длительно поддерживать положительную температуру даже в небольшой 20-метровой комнате. Если в неотапливаемых кухне и бабушкиной комнате принесенная с Невы вода замерзала уже через час, то в отапливаемых комнатах она превращалась в лед только к утру…
Видя мои страдания и боясь, что я заработаю воспаление легких, в один из таких морозных дней мама подошла к платяному шкафу и вынула из него свою новую шубку из пушистых коричневых шкурок… Мама вывернула шубку подкладкой наверх и надела ее на меня. От ее пушистого меха, окутавшего меня со всех сторон, мне сразу стало очень тепло. При моем росте ее шубка доходила мне до пяток и согревала не только мое туловище, но и ноги. После этого оставалось раздобыть что-нибудь теплое мне на голову, что решилось значительно проще, так как мама нашла папину шерстяную лыжную шапку двухслойной финской вязки. Теперь я могла, не вымерзнув как мамонты, перезимовать самую суровую зиму даже в неотапливаемой квартире.
Долгими днями я оставалась в темной холодной квартире практически полностью предоставленная самой себе. В соседней комнате лежала, находясь в тяжелой дремоте, бабушка, закутанная в несколько одеял. Вставала она очень редко, но если вставала – обязательно приходила в мамину комнату поговорить со мной… А меня угнетало отсутствие движения, я была не в состоянии лежать целый день. Несмотря на холод, я вылезала из-под одеял, садилась за стол, на котором стояла коптилка, и при ее слабом, мечущемся даже от моего дыхания огоньке я читала, читала, читала…
Начиная с 4 сентября, улицы нашего города регулярно обстреливались шрапнелью – снарядами, начиненными множеством мелких железок и разрывавшимися примерно в метре над землей. Это было специальное оружие для поражения живой силы на открытом пространстве. Чтобы увеличить число жертв, немцы разработали такую тактику: после первого залпа, когда под разрывы снарядов обычно попадало больше людей, чем при длительном обстреле, они обстреливали эту же улицу повторно, минут через 10, когда по их расчетам раненым начинали оказывать помощь люди, вышедшие из укрытий. Учитывая педантичность немцев, группа самозащиты выскакивала на улицу сразу после первых разрывов снарядов и за несколько минут до повторного залпа выводила или выносила несколько раненых.
Их размещали в помещении нашего домохозяйства и делали перевязку, чтобы остановить кровотечение, так как до больницы под обстрелом с ранеными было не дойти. Кроме того, и саму больницу немцы регулярно обстреливали, стараясь приурочить эти обстрелы к поступлению в нее новых раненых…
С 20 ноября норма хлеба стала минимальной – 125 граммов. В натуре это был очень сырой кусочек темного цвета, размером чуть больше спичечного коробка. Кроме муки в тесто добавлялась целлюлоза, которую в обычных условиях использовали для производства бумаги. У многих наших соседей началось головокружение, затем голодные обмороки. Каждый день оставшиеся в городе жильцы нашего дома после работы заходили в контору домохозяйства… Только здесь светила единственная электрическая лампочка, только здесь работал телефон, осуществлявший связь с комитетом по обороне и другими организациями Ленинграда, и только здесь круглосуточно в «титане» кипел кипяток… Эта комната стала и штабом местных «военных действий», и пунктом первой медицинской помощи, и клубом «по интересам» для людей, живущих в доме…
Первые смерти от голода начались с наступлением холодов. Первыми стали погибать маленькие дети из многодетных семей. В те дни, когда у телефона дежурила мама, я тоже спускалась в контору домохозяйства. Меня привлекали яркий свет электрической лампочки, позволяющий читать без напряжения, тепло от «титана» и возможность услышать последние интересные новости. Эти дни мне запомнились и тем, как после осторожного стука открывалась дверь и, придерживаясь одной рукою за стенку и не отрывая ног от пола, мелкими шаркающими шагами входила одна из многодетных мам и почти шепотом сообщала: «Эдик умер…» или «Эльза умерла…» Эти мамы сами уже казались бесплотными существами, они постепенно теряли все краски и даже облик живых людей, становясь похожими на иконописные изображения. Вы, наверное, видели такие иконы – в центре находится главная фигура, а на заднем плане по бокам от нее маленькие вытянутые тонкие фигурки с большими из-за нимбов головами. И тогда, и теперь, когда я гляжу на такие иконы, я вспоминаю тех матерей. По моим воспоминаниям, в нашем доме эти семьи погибли целиком, многие не дожили до конца декабря, оставшиеся – до февраля 1942 года. Уже в мирное время мама, вспоминая о блокаде, назвала две цифры, которые я запомнила на всю жизнь. Она сказала, что когда началась блокада, в нашем доме было сорок четыре ребенка, а к весне осталось только трое. Вероятно, кто-то еще был вывезен, но в основном все другие погибли от голода…
В конце ноября – начале декабря на Ситном и Кузнечном рынках в продаже вдруг появился студень. Он представлял собой желтоватое желе, в котором просвечивали редкие перчинки и лавровые листики. Продавалось это желе вместе с тарелкой или миской, в которой оно застыло. Ни в магазинах, ни в столовых ничего похожего на мясо не было, поэтому у всех покупателей сразу возникли вопросы: «Откуда это? Из чего сделан студень? Не из трупов ли или крыс?» В результате допросов продавщиц студня, проведенных «с пристрастием» заинтересованными покупателями, выяснилось, что студень представляет собой результат специальной обработки столярного клея с добавлением к нему в процессе варки черного перца и лаврового листа… В результате в декабре и январе весь наш маленький коллектив ел такой «студень» примерно один раз в неделю, уничтожив к середине февраля почти все папины запасы столярного клея.
Еще более существенными в спасении нас от голодной смерти оказались те несколько килограммов разных круп, упакованных мамой в брезентовом сундучке, подготовленном для поездки на отдых в Гостинополье. Мама разделила каждую крупу на маленькие ежедневные порции, которые добавлялись к пайку по карточкам. Чувства сытости эти добавки не вызывали, но мама говорила: «Все, хватит. Сегодняшним днем жизнь не кончается, завтрашнюю порцию и есть будем завтра». Характер у мамы был железный. Все же, чтобы поддержать меня, каждый вечер мама заваривала в кружечке маленькую чайную ложку картофельной муки, получалось что-то похожее на кисель без сахара и ягод, но дающее краткое чувство сытости, позволяющее уснуть и проспать до утра…
Продолжение следует
«Царскосельская газета» № 16 от 27 апреля 2023 г.

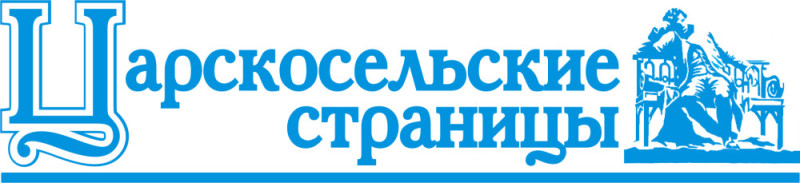







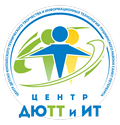
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.