Как мы выжили. Моя война, моя блокада…

Продолжаем публикацию фрагментов блокадных воспоминаний профессора ВИЗРа Ирмы Викторовны Исси.
Продолжение. Начало в №№ 14 ,15, 16
Декабрь
К декабрю в городе исчезли почти все животные. Большинство собак, кошек и голубей либо было съедено, либо погибло от голода. Совершенно не было слышно даже чириканья воробьев. Оставшиеся в живых собаки и голуби сами покинули город в поисках хлебных мест. Вороны улетели к местам сражений. Зато просто в невероятных количествах размножились крысы. Основным источником их питания были человеческие трупы, часто неделями лежавшие на улицах, в квартирах, на конюшнях или в подвалах. Крысы стали очень крупными, намного крупнее тех, что мы видим сейчас, и очень агрессивными. При попытках отогнать их от трупов, до приезда «труповозки» собранных в старой конюшне, они с противным визгом бросались на людей, пытаясь их укусить. Одна из таких крыс в ответ на мой взмах рукой намертво вцепилась зубами в валенок, но на мое счастье не смогла прокусить плотно скатанную шерсть и поранить ногу. Уже много позже в одном из романов К. Федина я прочла о том, как в голодные послереволюционные годы прошлого столетия полчище крыс напало на пролётку, проезжавшую по улице (теперь проспекту Обуховской обороны) между Александро-Невской лаврой и расположенными по берегу Невы продуктовыми складами, уничтожив лошадь, извозчика и пассажира.
В начале декабря, когда по продуктовым карточкам можно еще было «отовариться» в любом магазине, мы с мамой возвращались домой после похода к маленькой бабушке. Шли по Литейному проспекту, и так как надо было выкупить хлеб, заглянули в магазин на углу Литейного и улицы Чайковского. Мама встала в длинную очередь, и когда она подошла к продавщице, та взвесила на весах положенные маме и мне граммы хлеба одним кусочком. В это время крупный мужчина, стоявший у окна, прислонясь к стене, внезапно кинулся к прилавку, и с силой оттолкнув маму в сторону, схватил с весов хлеб и попытался сразу целиком запихать его в рот. Мужчины, стоявшие в очереди за мамой, вцепились в него, пытаясь оторвать ото рта его руки с нашим хлебом. Он сразу же упал набок на пол, сложился калачиком, руки его оставались крепко прижатыми к лицу, меж грязных пальцев текла обильная слюна с крошками хлеба. Сомнений в том, что наша суточная норма хлеба исчезла навсегда, у нас уже не было. Но мужчины, выскочившие из очереди, начали пинать его ногами, пытаясь разжать его руки и вытащить изо рта хлеб. Он же, не открывая глаз, плотно прижимал грязные руки к лицу, жевал и глотал, жевал и глотал. Мама в это время оттаскивала разъяренных мужчин от упавшего на пол похитителя нашего хлеба. Наконец, когда она крикнула: «Да оставьте же вы его в покое! Вы что, не видите, что это уже не человек?», все вдруг остановились и, не глядя друг на друга, вернулись на свои места в очереди.
Домой мы возвращались молча…
Я не знаю статистических данных по динамике гибели населения от голода. На протяжении последних лет цифры несколько раз и весьма существенно менялись, и можно предположить, что точных цифр мы уже не узнаем никогда. По моим воспоминаниям о том, что происходило в наших домах, самая высокая смертность от голода среди оставшегося в Ленинграде населения наблюдалась в декабре 1941 и январе 1942 годов. Во всяком случае, в нашем доме за эти месяцы умерло более всего людей. Именно до двадцатых чисел декабря сохранялась самая низкая норма выдачи хлеба – 125 граммов черной сырой массы, и именно в декабре и январе стояли темные морозные дни, не только с экстремальными для нашего города морозами, иногда зашкаливающими за 40 градусов, но и с пронизывающими шквалистыми ветрами. Не было дня, чтобы, выйдя на улицу и посмотрев по сторонам, я не увидела сразу несколько новых трупов. Иногда они были частично засыпаны снегом, который ветер сметал в сугробы вдоль тротуаров, иногда снег скрывал их почти полностью, иногда они ничком лежали посреди проезжей части улицы. Чаще всего снег оставлял на своей поверхности кисти рук с черными скрюченными пальцами, как будто умирающие от голода на морозе люди все еще цеплялись за что-то вроде надежды на жизнь…
Я не исключаю того, что именно на нашем участке, вокруг именно нашего дома трупов могло быть больше, чем на соседних участках, в силу сложившихся в то время трагических обстоятельств. Если человек оставался без продуктовых карточек (терял их или их у него украли), в эти зимние месяцы их никому не восстанавливали. В том случае если это трагическое происшествие случалось за день-два до выдачи новых карточек, еще можно было остаться в живых. Если впереди был более длительный срок, то он становился для этого человека смертным приговором. И вот люди, оставшиеся в силу трагических обстоятельств без карточек, шли в больницу имени Карла Маркса (которая была рядом с нами) в надежде, что их там примут и подкормят. Но существовал приказ – в больницу принимать на лечение только тех людей, которые передадут ей для своего пропитания продуктовые карточки.
И если идущим в больницу, ослабевшим от голода людям придавала силу надежда, что там их спасут, то при отказе, означавшем для них смертный приговор, они сразу же теряли силы. Дойдя до ближайших домов (один из них был наш), они садились на ступени подъездов или на сугроб, или просто падали на дорогу и замерзали…
Недавно из книги «Ленинград в блокаде», написанной Д.В. Павловым, занимавшим должность уполномоченного Госкомитета обороны по продовольственным вопросам, я узнала предысторию этого вопроса. Павлов вспоминал, что А.А. Жданов, узнав о случаях, когда люди, обращавшиеся за помощью в связи с потерей карточек, на самом деле карточек не теряли, подписал приказ «никому вторично карточек не выдавать». Далее шла почти восторженная фраза Павлова: «Потери карточек прекратились», что в переводе на русский язык относится к нашей суровой классике – «нет человека, нет проблемы».
Но с их смертью трагедия не кончалась. В ноябре и до середины декабря наши дворники отвозили на санках трупы умерших жильцов в покойницкую больницы Карла Маркса. Однако попытки дворников отправить туда же трупы прохожих, собранные на нашей территории, встречали яростное сопротивление сотрудников морга – трупы тоже было приказано принимать с документами и обязательно с карточками. За не убранные с центральных улиц трупы нагоняй получали управдомы. И тогда начался третий этап трагедии, превращающий нашу жизнь в фарс или трагикомедию. Дворники вставали ночью и под покровом темноты перевозили, переносили, перетаскивали не принимаемые моргом трупы со своего на соседний участок – пусть разбираются с моргом соседи. Но если дворники соседнего участка не теряли бдительность, то рано утром наши дворники находили на нашей территории не только унесенные с нее ночью трупы, но и трупы с соседнего участка. Как говорится, «се ля ви» военного времени.
Приказ вместе с трупом сдавать и продуктовые карточки привел к тому, что родственники умершего человека старались как можно дольше скрывать его смерть. Когда их спрашивали, почему так долго не видно одного из членов их семейства, следовал ответ, что он (она) так ослабел, что выходить из квартиры уже не в состоянии, больше лежит, чем ходит. Иногда это было правдой, как в случае с моей бабушкой, иногда ложью.
В последнем случае труп долгое время (до месяца, пока по карточке этого человека можно было получать продукты) лежал дома среди живых людей. Такое было возможно в зимний период, когда во всех квартирах температура была ниже нуля. Если кто из соседей и догадывался, что этого человека уже давно нет в живых, то я не знаю ни одного случая, чтобы об этом донесли «кому следует». Все хорошо понимали, что карточка умершего человека могла стать единственным счастливым шансом для выживания остальных членов этого семейства…
Январь
В один из первых дней января, вскоре после празднования нами Нового года, я сидела за столом в нашей комнате в маминой шубке и папиной лыжной шапке с большим помпоном и что-то читала при свете коптилки. Неожиданно в коридоре раздались тяжелые шаги, и в дверях я увидела бабушку, входящую ко мне в комнату. Ее появление меня очень удивило, так как бабушка уже давно не могла самостоятельно встать с кровати… Бабушка смотрела на меня и весело улыбалась, при этом она держала руки перед собой так, как будто несла в них поднос или большую сковородку. «Ты посмотри, – сказала она мне, – какие красивые, какие вкусные котлеты я нажарила на всех вас. Доставай скорее тарелку, я тебе положу две самые румяные, как ты любишь» … – я растерялась, не понимая, что же я должна теперь сделать. Потом, чтобы ее не обидеть, подражая ей, сделала вид, что ставлю тарелку на стол. Она, как это можно было понять по движениям ее рук, положила мне со сковороды на тарелку две котлеты и спросила через несколько минут, понравились ли они мне. Я сразу сказала: «Очень», так до конца и не понимая, что же с нею происходит… Потом бабушка подошла ко мне, погладила меня по голове и сказала, что очень устала от готовки обеда и теперь пойдет отдыхать: «Теперь усну спокойно, и тебя накормила сытно, и Гиле с Валей котлеты оставила» [маме и тете, прим. ред.]. Она вышла из комнаты, и я услышала, как она ложится на кровать. Это была моя последняя встреча с бабушкой, больше живой я ее уже не увидела…
Моя бабушка лежит на Пискаревском кладбище, под куртиной, обозначенной как «январь 1942 года». Там же или под соседними куртинами нашли свое последнее пристанище мои дворовые и школьные друзья. Это единственное кладбище нашего города, на которое я не смогу пойти еще раз, чтобы навестить бабушку, на это у меня нет сил. Один раз в своей жизни я была там вместе с чешским ученым, доктором Я. Вейзером, приехавшим в наш город на конференцию. Мы прошли с ним по одной аллее кладбища до памятника и по другой аллее до выхода с кладбища. Мне вдруг стало так плохо, охватила такая слабость, что я начала терять сознание, и если бы не чех, упала бы на дорожку. Меня окружили посетители мемориала, дали какое-то лекарство, но понадобилось время, чтобы я пришла в себя и смогла идти. Создалось впечатление, будто похороненные там люди отняли у меня все жизненные силы. Мне стало ясно, что второй раз живой с этого кладбища я могу и не уйти.
Памятник, поставленный на Пискаревском кладбище, самой большой в мире братской могиле гражданских лиц, по моему глубокому убеждению, мало соответствует этому скорбному месту. Родина-мать представлена женщиной, держащей в руках венок. На абсолютно бесстрастном лице – ни скорби, ни отчаяния: вас много, но венков на всех вас хватит. А Родина должна оплакивать потерю своих детей, и одного, и десятков тысяч. Над этой огромной братской могилой с сотнями тысяч невинно погибших мирных людей нужно было поставить статую, из глаз которой будут вечно течь слезы – и сегодня, и завтра, и много лет спустя, статую, чье лицо выражает скорбь по всем погибшим детям, женщинам и старикам…
Несмотря на начавшуюся еще в конце ноября доставку продовольствия в город по льду Ладожского озера, продуктов катастрофически не хватало, сильнейший голод продолжался. Именно в двадцатых числах января было три дня, в которые население не получило вообще ничего, даже мизерной порции хлеба. По сарафанным данным того времени, это привело к ежедневной гибели более 25 тысяч человек, продолжавшейся в течение нескольких дней.
В январе люди погибали не только от голода и обстрелов, но и от продолжающихся бомбежек. Недалеко от нас, на Нижегород-ской улице (теперь улице академика Лебедева), напротив здания Военно-медицин-ской академии, между улицей Комсомола и Финским переулком стоял узенький дом, встроенный между двумя «солидными» домами старой застройки. Именно в него попала бомба, скорее всего осколочная, и он сложился аккуратным холмиком строительного мусора между двух уцелевших соседних домов. Люди, спустившиеся в бомбоубежище, остались живы, сквозь толщу обрушившихся перекрытий были слышны крики о помощи. Но ни у кого – ни у родственников этих замурованных в подвале людей, ни у жильцов соседних домов, ни у девушек из отрядов ПВО, изможденных длительным голоданием, не было сил на разбор завала, образовавшегося при разрушении многоэтажного дома… Морозы в эти дни стояли сильные, через несколько дней развалины замолчали.
В городе не было горючего. Пожарные машины стояли. Поэтому, если в здании возникал очаг пожара, который не сумели потушить жители этого дома, огонь постепенно распространялся по всем помещениям.
Пожар длился до тех пор, пока было чему гореть и в доме не выгорало все, до чего добирался огонь. По несколько недель продолжали гореть и дымиться здание студенческого общежития Ленинградского университета на проспекте Добролюбова и старинный многоэтажный дом на улице Чайковского вблизи Моховой… Мы с мамой неоднократно проходили мимо этих горевших домов, каждый раз удивляясь длительности пожара…
Где-то в середине января мы нагрузили санки мелко наколотыми дровами и отправились навещать маленькую бабушку и деда… Мороз в тот день был сильнейший, где-то далеко за 30 градусов… Когда мы добрели до бабушки, наши силы были на исходе. В двери пришлось долго стучать, так как на дверях бабушкиной квартиры было несколько (по количеству соседей), но только электрических звонков, а электричества не было и в помине. Первое, что мы сделали, когда нам открыли дверь, – кинулись к топящейся буржуйке и постарались отогреть онемевшие руки. В большой комнате было темно и холодно, на обеденном столе еле теплился огонек коптилки, дед сидел в шубе и валенках, бабушка была закутана в большой шерстяной платок. На буржуйке стояла маленькая кастрюля, в ней что-то кипело. «Сейчас я вас всех порадую, – сказала бабушка, – вчера я разбирала нижнюю полку в буфете и у самой задней стенки нашла рассыпанную вермишель. Она уже варится, мы поужинаем вместе»… Я первая придвинула к себе свою тарелку, после нашей прогулки нестерпимо хотелось есть. Но когда я взглянула на вермишель, то даже при слабом свете коптилки увидела, что на дне тарелки лежит примерно равное количество вермишелин и вареных личинок мучного хрущака, больших и толстых. Я остановилась, и как только бабушка отошла к буржуйке за чайником, шепотом сказала маме: «Посмотри! Здесь столько же червей, сколько вермишели, я не смогу…». Мама быстро зажала мне рот: «Ешь! И ни слова больше!». Кроме меня никто личинок не увидел, вермишель съели с большим аппетитом, за пять минут с ужином было покончено…
Обратно мы возвращались по четной стороне Литейного проспекта. Когда мы дошли до ворот Куйбышевской (теперь Мариинской) больницы, то увидели, что внутри больничного сада на расстоянии двух-трех метров от чугунной ограды, как дрова, уложены трупы людей. Они лежали от ворот до середины ограды, где она делает полукруг… Высота этой кладки трупов приближалась к двум метрам. Со стороны проспекта были видны то головы, то босые ноги. Кто-то был одет, кто-то был совершенно голым. По цент-ру этой «поленницы» лицом к проспекту был поставлен почти двухметровый ярко-рыжий мужчина лет сорока. Он был абсолютно голым, с грудью и животом, покрытыми густым рыжим мехом, и руками, крест-накрест сложенными на груди. В руки была всунута палка огромной метлы, прутья которой торчали над его головой. Мужчины, проходившие в это время мимо больничной ограды, бросили друг другу короткие реплики: «Своих сторожит», «И после смерти не сдаемся!». В их словах звучало скорее одобрение, но никак не возмущение увиденным. Приходится признать, что война и повседневные смерти рядом с тобой и вокруг тебя кардинальным образом меняют оценки всего происходя-щего…
Продолжение следует
«Царскосельская газета» № 17 от 12 мая 2023 г.

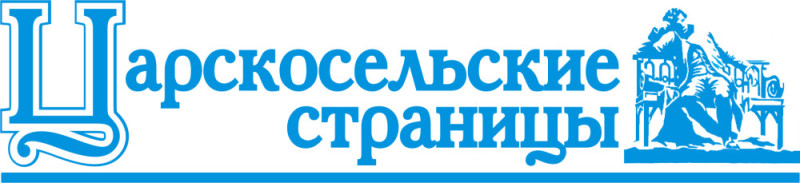







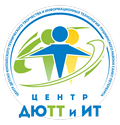
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.