Как мы выжили. Моя война, моя блокада…

Навстречу 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Продолжаем публикацию фрагментов блокадных воспоминаний профессора ВИЗРа Ирмы Викторовны Исси.
Продолжение. Начало в №№ 14 ,15, 16, 17, 18
Февраль
В январе-феврале город приобрел жутковатый вид. Водопровод и, следовательно, канализация нигде не работали. За водой ходили на Неву и составляющие с ней единую водную систему реки и каналы… Приносили домой самый минимум воды, обычно молочный бидончик на 2-3 литра, которого хватало на сутки для питья и приготовления нашей скудной еды. Учитывая то, что во всех домах при сильных морозах температура была близкой к нулю, а часто и просто отрицательной, ни о мытье, ни даже об утреннем умывании не могло быть и речи. Самое большее, на что были способны люди, – это в гигиенических целях обтереть лицо сырой тряпкой, но большинство не делало и этого. Лица у многих блокадников неделями были покрыты сажей от пламени коптилок, особенно густо она лежала на верхней губе, под носом, похожая на усики франтоватого мужчины, и понять с первого взгляда, кто перед тобой – мужчина или женщина, иногда было трудно…
Начала процветать вшивость. Однажды мама, вернувшаяся домой после очередного дежурства, разожгла огонь в буржуйке, сняла с нее верхнюю крышку и на открытом огне стала обжигать подошвы своей обуви. Меня это очень удивило. В ответ на мои расспросы мама сказала, что утром в контору пришли жильцы одной из квартир и сказали, что их соседи – муж, жена и чей-то брат – уже второй день не выходят из запертой комнаты и на стук в двери не отзываются. Мама взяла с собой кого-то из группы самозащиты и дворника, и когда на их стук двери тоже никто не открыл, послала за участковым, чтобы взломать двери в его присутствии. Когда они вошли в комнату, то поняли, что соседи были правы, и лежащие там на кроватях люди, укутанные в несколько одеял, мертвы. Вскоре всех вошедших в комнату насторожил странный хруст, раздававшийся при их хождении по полу. В комнате было темно, они отодвинули угол одеяла, прибитого к оконным рамам, и при сером дневном свете увидели, что пол покрыт серо-желтоватым налетом, который и потрескивал, когда на него наступали. «Ты представляешь, – простонала мама, – там было такое великое множество вшей, что они покрывали все пространство пола между двумя кроватями. Вероятно, когда эти люди умерли, вши пошли искать новые жертвы. Мне кажется, их было столько, что они запросто могли высосать всю кровь этих несчастных. Представляешь, от одного их вида нас всех начало тошнить, и мы просто бежали оттуда. Я теперь одного боюсь, как бы нам не заразиться этими вшами, ведь они могли заползти на мою обувь, вот я и решила ее обжечь». Но на нас с мамой почему-то вши не заводились. «Ехидная ты, Валентина, вот вши на тебе и дохнут», – сказал на это наш участковый. Но на мне они тоже, на мое счастье, не хотели жить, иначе мне пришлось бы расстаться с косами.
Не работавшая всю зиму канализация постепенно привела город в катастрофическое состояние, имелись все предпосылки и все условия для развития эпидемий кишечных заболеваний. Многие люди, бывшие не в состоянии выносить нечистоты за пределы квартиры, выливали их либо в форточку на улицу, либо в пролет лестницы, и они растекались до входа в подъезд или до подвального помещения. Дома выглядели по-разному, одни оставались практически чистыми, как наш дом, другие были все в потоках и подтеках нечистот…
Все эти обстоятельства сделали очень понятной мамину радость, когда она узнала, что в городе появилась работающая баня. При первой же возможности мы отправились в нее мыться. Это была знаменитая до войны баня на улице Чайковского… При входе висело объявление «Мужчины моются слева, женщины моются справа». Зал был полутемным, где-то высоко под потолком горела одна- единственная лампочка. Противоположная сторона зала почти не просматривалась. Вода в горячем кране была, увы, не горячей, а теплой, ее не надо было разводить холодной водой. Как только мы начали мыться, нам стало холодно – мокрая кожа стала остро ощущать потоки холодного воздуха от окон и из соседних помещений. Мы мужественно терли себя мочалками и смывали накопившуюся за несколько месяцев грязь… Я думаю, что одеваясь, мы побили все рекорды по скорости натягивания на себя носильных вещей. Потом, после маминого рассказа о нашем походе в баню, еще несколько человек му-жественно решились на ее посещение…
Март–апрель
В начале марта были увеличены нормы хлеба, но людей продолжало шатать от постоянного недоедания…
О тяжелом санитарном состоянии города было известно немецкому командованию, и оно его весьма устраивало. Беспокоило это и наше городское начальство. В конце марта все организации города получили приказ – до потепления и таяния снега очистить дома и улицы от нечистот, убрать с улиц снег, лежащий и на тротуарах, и на проезжей части улиц толстым плотным утоптанным слоем.
Самыми первыми из выполнивших приказ по очистке улиц от снега и льда стали сотрудники Большого дома. Они честно до самого асфальта выскребли большой участок Литейного проспекта на всю ширину своего знаменитого учреждения, включая как свою, так и его противоположную сторону… Когда мы по Литейному проспекту дошли до расчищенного военными участка, он оказался почти на метр ниже заснеженного участка, и нам пришлось спрыгнуть вниз, на чистую панель. В конце путешествия по очищенному участку оказалось, что самостоятельно выбраться на еще не очищенный участок мы не в состоянии, впрочем, это не смогло сделать и большинство других пешеходов. Мне запомнилось, что когда я подошла, этот плотный слой снега был мне до подмышек. В результате сначала кому-то дружно помогли, подталкивая, выбраться наверх, потом те, кто выбрался, стали вытаскивать за руки пешеходов, оставшихся внизу. Кто-то не выдержал и пошел ругаться к начальству Большого дома. Возвращаясь через несколько часов, мы увидели, что в снегу уже были сделаны широкие ступени для спуска и подъема людей.
В военное время приказы выполняются быстро и без обсуждений, так как их невыполнение карается по законам военного времени, вплоть до расстрелов. Дней за десять город был полностью убран и от снега, и от нечистот. Трамвайные пути были расчищены, что давало возможность возобновления трамвайного движения. Надежды немецкого командования на возникновение весной эпидемий в осажденном городе не оправдались…
Блокада продолжается (май – декабрь 1942)
Как только наступили первые теплые дни, и из земли полезли первые зеленые пророст-ки разных травянистых растений, огородные грядки начали копать все и везде… Основная трудность заключалась в отсутствии у большинства городских жителей овощных семян, лопат и навыков работы на огороде. Поэтому многие начали с того, что просто стали собирать и есть различные травянистые растения, в первую очередь в пищу пошли листья одуванчика, лебеды и крапивы, съедобными оказались белые корневища и подземные части пырея, листья липы.
В продовольственных магазинах тоже начали продавать разную «дикую» зелень. На прилавках высокими горками лежали скошенные где-то растения лебеды и крапивы, изредка в продаже появлялся щавель. Висели объявления, что при готовке блюд из листьев одуванчика их вначале надо подержать в холодной воде и смыть белый (каучуковый) сок и только потом использовать в супах и салатах. В аптеках и детской поликлинике появилась зеленая витаминная настойка, приготовленная из молодой хвои сосны и ели…
И мама, и папа писали друг другу письма почти ежедневно. Не была оставлена вниманием родственников и я, так как и папа, и дядя с тетей писали мне отдельные письма, правда, не так часто, как маме. Все папины письма начинались с виньетки, выполненной цветными карандашами. Это были карельские пейзажи. А в самом письме обязательно был маленький забавный рассказ либо о животных, чаще о собаках, либо о людях… Дядины письма были маленькими научными сообщениями. Чаще всего он писал о повадках разных пауков. Но перед рассказом всегда было изображение паука, его русское и латинское видовое название, а сам текст также сопровождался прекрасными рисунками.
Я тоже писала в ответ письма, часто это были стихи моего сочинения. Рисунки мама мне посылать не советовала, они были мрачными (с чего бы им быть светлыми?), и цензура их не пропустила бы. Цензура проверяла все письма, на которых потом ставила штамп «Проверено цензурой». Такие фразы, как «Семья Х вымерла полностью», либо вымарывались цензурой, либо письмо уничтожалось. Поэтому все перешли на эзопов язык. Например, фраза «Семья Х уехала жить к Ивану Петровичу» означала, что все умерли, и адресат это понимал, так как был когда-то на похоронах Ивана Петровича. «Мартынов на днях встретился с Володькой А.» расшифровывалась как «На днях погиб Мартынов», а «Лебедев поехал к Стиве» – «Лебедева арестовали», так как Стива, крупный инженер-доменщик, был в 1938 году посажен на десять лет за как будто бы рассказанный им антисоветский анекдот (об анекдоте говорилось в доносе). Так что цензура цензурой, но все быстро приспособились сообщать все неприятные новости так, что они проходили мимо внимания цензоров и были понятны только адресату…
В середине августа перед школой я пошла в детскую поликлинику. Врачу не понравились шумы в верхушках моих легких, и так как я состояла на учете в тубдиспансере, мне для контроля поставили в этот день пробы на реакцию то ли Пирке, то ли Манту. Когда я вышла из поликлиники на проспект К. Маркса, из репродукторов неслась не-обычно громкая музыка, почему-то передавали немецкий военный марш. Услышав его, я остановилась в недоумении. Затем музыка зазвучала иначе. У подъезда, ведущего в поликлинику, стояло несколько женщин, и я спросила у них: «Вы не знаете, что сейчас передают по радио?». Мне ответили: «Новую симфонию Шостаковича, Ленинградскую»… В то время эта симфония вообще не произвела на меня впечатления, особенно странным для меня было звучание немецкого марша, показавшееся мне бледным. Впоследствии, уже учась в университете, я изменила свое отношение к симфонии, выслушав ее исполнение в филармонии, на хорах прямо над оркестром. Мощь оркестра обрушивалась на меня так, что звуки, казалось, пронизывали меня насквозь, создавая ощущение силы исполняемого произведения.
В тот день наш участок не обстреливался, и мама послала меня в магазин за хлебом. Стоя в длинной очереди, … я услышала, как одна из стоявших в сторонке женщин сказала другой: «Посмотри на этого ребенка, ей лет десять, а взгляд – как у семидесятилетней старухи». Мне стало интересно, о ком же они говорят, и я посмотрела в их сторону. Они обе смотрели прямо на меня, наши взгляды встретились, они поспешно отвернулись, а у меня сразу испортилось настроение. Я поняла, что они говорили обо мне. Их фразу я запомнила на всю жизнь…
Такие особенности психологии нашего народа, как наплевательское отношение ко многим правилам общественного поведения, а иногда и к опасностям, сказывались и в нашей блокадной жизни. В какой-то мере эта особенность отразилась и в рассказах одного из наших знакомых, до войны побывавшего в Германии в командировке. Рассказывая нам о немцах, он страшно удивлялся их поведению на улице. «Представляете, – говорил он всем, – на переходе горит красный свет для пешеходов, в обе стороны по улице не видно ни одной движущейся машины, а немцы стоят на тротуаре и ждут, балда балдой, когда зажжется зеленый. Наши уже давно были бы на другой стороне улицы».
Это преамбула к моему рассказу, генетически родственному рассказу нашего знакомого. Во время обстрела гражданскому населению полагалось находиться в укрытии. Но если дежурные групп самозащиты и ПВО «загоняли» людей, идущих по улице во время обстрела, в один подъезд, эти люди выходили из другого подъезда и шли дальше по своим делам. Конечно, наиболее интенсивно обстреливаемый участок люди обходили стороной или заходили в укрытие. Наиболее строго во время обстрелов охранялись мосты, к их охране привлекались военные патрули, обычно по два патруля с каждой стороны моста. Как только растаял лед на Неве, и мы стали добираться до бабушки и обратно сухопутной дорогой, по улицам, почти каждый раз при возвращении домой мы попадали под обстрел и встречались с запретом прохода через Литейный мост. Если не обстреливали район Военно-медицинской академии, то обстреливали Литейный проспект, или наоборот. Но и в том, и в другом случае проход по Литейному мосту перекрывали военные патрули. И вот представьте себе такую картину. Проход по Литейному мосту охраняется двумя патрулями с каждой стороны моста.
У самых близких к мосту домов, на обеих сторонах Литейного проспекта, скапливаются толпы людей, жаждущих перебраться на Выборгскую сторону. Мы с мамой в таких случаях обычно стояли на нечетной стороне проспекта, у здания Артиллерийского училища… Когда критическая масса людей превышала какой-то неустановленный показатель, толпа вдруг бросалась бегом на мост. Сдержать массу бегущих людей одному патрулю было не под силу, и ему на помощь бросался второй патруль. Наступал момент икс для нашей стороны. Мы все кидались на мост, предоставляя патрульным решать дилемму – то ли бросать тех прохожих и начать ловить нас, то ли продолжать ловить их и не начинать ловить нас. Каждый раз патрули решали это по-своему, но результат всегда был одинаковым – назад, на Литейный проспект, удавалось вернуть очень немногих. И как только мы легкими короткими перебежками одолевали первую половину моста, нас встречали патрули Выборгской стороны, которые также были заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее освободить от нас мост.
В этом наши интересы полностью совпадали, и мы вскоре, минут через пять, уже одолевали баррикады Клинической аллеи. Эту особенность русского народа отметать от себя неприятности, не обращая на них должного внимания, отметил в своих дневниках еще Бисмарк, несколько лет в составе немецкого посольства проживший в России и в Санкт-Петербурге. Ему так понравилось, что в ответ на серьезные неприятности один из русских просто махал рукой и беззаботно говорил: «А… ништо!», что он заказал себе перстень, на внутренней поверхности которого было выгравировано это выражение, и не расставался с ним до самой своей смерти…
В конце лета, несмотря на то что к нашему блокадному пайку прибавилась разная съедобная зелень, я стала себя плохо чувствовать… При первой же возможности я устраивалась на постели и засыпала. Мама отвела меня к нашему детскому врачу. Там меня простукали и промяли самым тщательным образом. Потом врач сказала маме: «Девочка растет, ей сейчас надо много белков, а их нет. У нее общая дистрофия второй степени и миокардиодистрофия. Как только у нас откроют стационар для детей, мы ее положим на лечение, поддержим хоть немножко. А сейчас минимум нагрузок, хочет спать – пусть спит. И еще, не меняйте водку на хлеб (по рабочей карточке полагалось пол- литра водки в месяц), в водке калорий значительно больше. Попробуйте давать девочке каждый день чайную ложку водки во время еды». Не верите этому? Напрасно…
Окончание в следующем номере
«Царскосельская газета» № 19 от 25 мая 2023 г.

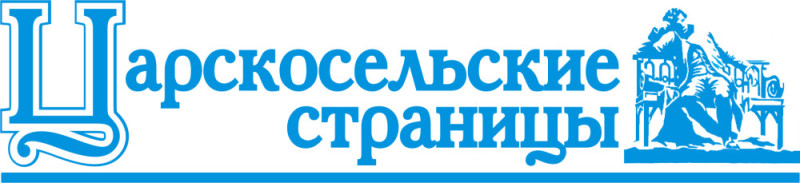







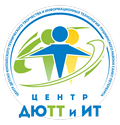
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.