Как мы выжили. Моя война, моя блокада…

Навстречу 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Завершаем публикацию фрагментов блокадных воспоминаний профессора ВИЗРа Ирмы Викторовны Исси.
Окончание. Начало в №№ 14 ,15,16, 17, 18, 19
Блокада продолжается. Январь – декабрь 1943
Я по-прежнему пребывала в состоянии полуспячки, даже любимые книги не могли победить мое дремотное состояние… Вскоре после встречи Нового года я по врачебному направлению была положена на два месяца в стационар «для юных дистрофиков»…
В стационаре нам каждое утро давали стакан соевого молока, потом мы получали разные каши с маслом и соевые шроты – отжатые на масло дробленые соевые бобы. Эти бобы должны были восполнить нам нехватку животных белков. Постепенно моя сонливость пошла на убыль, я вылезала из-под одеяла и усаживалась на широкий деревянный подоконник… Восемнадцатого января воздух города несколько часов гудел от артиллерийской канонады…. Никто не мог понять, что происходит, то ли немцы нас штурмуют, то ли наши войска перешли в наступление. Радио молчало. Только на следующий день мы узнали, что наши войска прорвали блокаду…
После прорыва блокады немецкие войска все еще оставались вокруг города. Их артиллерия с еще большим остервенением продолжала его обстреливать, в февральские дни на нашем участке разрывы снарядов гремели с утра до ночи.
Первое полугодие 1942–1943 учебного года я пропустила целиком. После того как закончилось мое лечение в стационаре и врачи дали разрешение на посещение школы, я наконец-то отправилась учиться снова… Экзаменов весной сорок третьего года в нашей школе ни у кого не было, и мы закончили учебу уже в первых числах июня. В это время прилавки магазинов опять были завалены горками лебеды и крапивы, скрашивавшими наше однообразное питание…
В июле 1943 года, после награждения всего начальствующего состава, началось награждение медалью рядовых граждан, участвующих в обороне города. Одной из первых награжденных была моя мама. В этот день она была приглашена в Исполком Выборгского района, находившийся на другом от нашего дома конце проспекта К. Маркса. Какую-то часть пути мама проехала на трамвае по Лесному проспекту. Начался обстрел, и трамваи встали. Маме, чтобы не опоздать на награждение, пришлось идти пешком. Когда она дошла до Литовской улицы, пересекающей Лесной проспект под железнодорожным мостом, то увидела причину остановки всех трамваев на проспекте. Под мостом стояли два встречных трамвая, один из которых только что отошел от остановки, другой не успел до нее дойти. В тот момент, когда они поравнялись, в них попало несколько снарядов. Это было время окончания работы на многих предприятиях, вагоны были набиты людьми… Многие пассажиры были убиты сразу, многие тяжело ранены. Мама, вернувшись вечером после награждения, говорила, что такого количества пролитой крови до этого она не видела никогда, кровью была залита вся мостовая. Когда мама стала переодеваться, подметки и бока ее туфель были в крови погибших людей. Поэтому она не любила вспоминать этот день, хотя очень гордилась полученной медалью…
В середине сентября в жилых домах, где до этого по-прежнему горели только коптилки, наконец-то загорелись электрические лампочки… В начале октября начал работать водопровод, а в середине месяца был пос-ледний налет немецких самолетов на город. Однако регулярные обстрелы города продолжались. В конце октября для школы начали привозить дрова, тонкие бревнышки с грузовика скидывали на школьный двор, а нам предстояло их распилить и перенести в подвал, где находилась котельная. В один из таких дней в нашем классе было только четыре урока, и мы первыми вышли во двор, начали пилить и носить дрова. После пятого урока на эту работу вышел другой класс, а мы все ушли. Именно этот класс накрыло первым залпом немецкой батареи. Одна девочка была убита сразу, несколько других ранило, главным образом легко…
Один раз в неделю мы всем классом ходили в госпиталь Военно-медицинской академии на углу проспекта Карла Маркса и Боткинской улицы (потом это здание называли клиникой Куприянова). Там в центральном корпусе в большом помещении второго этажа по центру стояло несколько сдвинутых вместе в один длинный ряд столов, на которых лежали горы выстиранного солдатского белья. У многих рубах были отрезаны один или оба рукава, или сама рубашка была разрезана вдоль. То же самое было и с кальсонами. Это белье снимали с раненых, стараясь как можно меньше причинять им боль. Нам выдавали швейные иглы и катушки с белыми нитками, и мы в меру своих сил и умения чинили это белье…
Примерно раз в месяц мы приходили к раненым со своими концертами. Программа концертов полностью зависела от наших возможностей – мы честно старались, кто во что был горазд… Меня же наша жизнь с почти ежедневными смертями, голодом, обстрелами, но с верой в победу без всяких сомнений вдохновляла на написание стихов. Их я и читала раненым. Эти стихи были и про убитую девочку, и про погибших от голода друзей, и про веру в солдат, лежащих сейчас в госпитале, и про ожидание победы… Одно из стихотворений кончалось призывом: «Отомстите за нас! Отомстите за нас!». В зависимости от того, в какой палате я находилась, это стихотворение я читала по-разному. Если большинство раненых уже сидело на кровати или ходило, я заканчивала громким голосом, но если в палате многие еще лежали, часто с закрытыми глазами, последние строчки я произносила «трагическим» шепотом. Но в какой бы палате я ни читала этот стих, после него кто-нибудь из раненых громко говорил мне: «Не беспокойся, доченька, вот как поправимся, обязательно отомстим»… Откуда-то появлялся сухарь или кусочек сахара, но мы, понимая, что раненым самим нужно все это, чтобы быстрее поправиться, отказывались брать от них их «заначки». Несмотря на это, когда я приходила домой, нередко в моей полевой сумке оказывалось что-нибудь съестное – «дар почитателей моего творчества»…
Снятие блокады и дальнейшая жизнь (январь–декабрь 1944)
Двадцать седьмого января день в школе прошел как обычно, но когда я вместе с двумя девочками из моего класса шла домой, началась массированная стрельба из орудий всех калибров. Как в прошлогоднем январе, воздух начал дрожать от стрельбы так, что как музыка пронизывал звуками выстрелов и разрывов все тело, начинало казаться, что слышишь не только ушами, но и каждой клеточкой своего тела… Потом выстрелы смолкли, и в воздухе повисло тревожное ощущение неизвестности. На следующий день мы узнали, что блокада нашего города снята, ее больше не существует…
В один из жарких июньских дней город встречал партизан Ленинградской области. Нескончаемой колонной они шли по улицам… Длинная колонна была представлена в основном мужчинами всех возрастов, от подростков до седых и бородатых стариков, женщин среди них было очень мало. На голове у многих партизан были папахи, как у Чапаева, с красной звездой и красной ленточкой наискосок…
В начале августа рано утром раздался звонок, я открыла входную дверь и увидела папу. Я завизжала на всю квартиру и повисла у него на шее… Из комнаты выскочила мама, думая, что со мной случилось что-то страшное. Увидев папу, она не поверила своим глазам, он ведь ничего не написал о возможности своего приезда к нам. Оказалось, что пришел приказ о его переводе в штаб 3-го Украинского фронта, к Ф.И. Толбухину (пока он ехал к месту назначения, этот штаб стал штабом Южной группы войск). Ему разрешили на сутки задержаться в родном городе…
Утром папа с мамой поехали в коммерческий Елисеевский магазин купить чего-нибудь вкусненького и позвать друзей, чтобы отпраздновать встречу с папой. Заплаканная мама вернулась днем и без папы… Когда они выходили из магазина, папа нес тяжелую сумку и не увидел лейтенанта, стоявшего за углом и возглавлявшего патруль, и поэтому не отдал ему чести. Папа перед ним извинился, но ни извинения, ни просьба мамы отпустить его, так как на встречу с семьей ему дали только 24 часа, на лейтенанта не подействовали. Папа под конвоем был с торжеством препровожден на гауптвахту – арест на трое суток.
Уже поздно вечером раздался телефонный звонок. Звонил папа, сообщив, что начальство гауптвахты, ознакомившись с его документами и срочным направлением в штаб Толбухина, отпускает его на поезд… Мама же долгое время после папиного отъезда вспоминала лейтенантика, задержавшего папу, и всегда кончала такой фразой: «Какая же мать вырастила такого подлеца, который получал удовольствие от гадостей другим? Ведь видел же по документам, что папе разрешено только на сутки задержаться в Ленинграде, чтобы повидаться с семьей, и то все изгадил». Виктор [брат], слушая ее рассказ, прокомментировал его так: «Был бы на фронте, долго бы живым не проходил»…
Первого сентября я пошла в шестой класс той же самой школы №105 на Бабурином переулке. Численность класса заметно увеличилась, он постепенно пополнялся вернувшимися из эвакуации девочками… Улучшился и «климат» школы, стало значительно теплее, благодаря регулярному отоплению помещений, стало намного светлее, так как зажглось больше электрических ламп, стало намного уютнее. К нашей всеобщей радости значительно снизилось поголовье крыс, неимоверно размножившихся в первые две блокадные зимы…
По различным учреждениям города стали распространять американские подарки. В основном это были носильные вещи, иногда ношенные, но в очень приличном состоянии, иногда новые…
Папины письма теперь приходили из-за границы. Сопоставляя данные, приведенные в газетах, с текстами папиных писем, мы понимали, что после серьезных боев в Венгрии армия, в которой он сейчас воевал, вышла в австрийские Альпы. Об этом в письмах никогда не писалось прямо, в тексте же упоминались либо литературные произведения, в которых была описана эта страна, либо автор книги, национальность которого нам была известна. Один раз в письме была такая фраза: «Забавно, что мало кто из нас с первого раза смог выговорить такое название города как Секешфехервар, можно было бы включить это слово в скороговорку для детей». И мы понимали, что папа в Венгрии, где как раз в это время шли жестокие бои за этот город.
Конец войны
В апреле стало ясно, что окончание войны не за горами. В мае ожидание подписания документов об окончании войны становилось все сильнее и нестерпимее. Я помню, что все ожидали, что это произойдет восьмого мая. В этот день в угловой комнате собрались все наши соседи, радиотрансляция была включена на полную мощность, но продолжала играть музыка, а торжественной фразы Левитана – «Говорит Москва…», с которой начинались все самые важные сообщения, все не было и не было… Торжественное сообщение об окончании войны прозвучало только рано утром…
Я уже не помню всего, что происходило в тот день на Дворцовой площади. После салюта под громкие звуки музыки, льющиеся из всех репродукторов и перекрывающие все остальные шумы, публика начала расходиться по домам. Основным выходом с площади стала арка Главного штаба…. По мере приближения к арке толпа сплачивалась все сильнее, сзади на идущих первыми давили следующие за ними, а с боков – стены Главного штаба, все более сужающие пространство между собой. Передо мной шли два брата, похожие друг на друга как две капли воды, либо близнецы, либо погодки. Один был в морском кителе, другой – в форме сухопутного артиллериста. По их разговору было ясно, что они встретились впервые после длительного перерыва и никак не могут наговориться. Когда мы вошли в самую широкую часть воронки, где-то впереди слева раздался пронзительный женский крик: «Помогите, помогите, спасите меня!». Все с недоумением посмотрели друг на друга. Было совершенно непонятно, кто и почему кричал. Но чем ближе становилась арка, тем теснее прижимало нас всех друг к другу, тем труднее стало даже дышать. И уже никого не удивило, когда крики о помощи раздались впереди и правее нас снова. Громкая музыка заглушала крики, и их не слышали те, кто шел за нами. Спустя короткое время я почувствовала, что при моем маленьком росте давление толпы начинает опускать меня вниз. Чтобы удержаться на ногах и не рухнуть на асфальт, я изо всех сил старалась не согнуть колени, и они у меня от беспредельной нагрузки предательски задрожали. Я отчетливо поняла, что если я сейчас упаду, толпа не сможет остановиться, так как на нее напирает масса людей, идущих сзади. И они сотнями пройдут по мне так же, как это было на Ходынке при коронации Николая Второго. Братья, идущие впереди меня, были высокими и поэтому испытывали меньшую нагрузку, но и они крепко держались за руки, а их лица были напряжены. Я дернула их обоих за рукава, и когда они обернулись, сказала: «Спасите меня, я сейчас упаду и меня раздавят». Они поглядели друг на друга, и быстро вскинули меня наверх, сказав: «Держись за наши плечи». Моя левая рука оказалась на левом плече артиллериста, а правая – на правом плече моряка, они крепко схватили меня за кисти рук, и толпа понесла нас под арку. После выхода из-под арки давление начало спадать с каждым шагом. Братья перешли Невский проспект и донесли меня до стен кинотеатра «Баррикада», поставили у стены, и я, еще не отойдя от пережитого страха, опустилась на корточки, так как ноги меня не держали… Это был самый страшный день в моей жизни за все время войны. И этот страх перед толпой у меня остался навсегда. Но самое главное заключалось в том, что впереди была новая мирная жизнь, но с отголосками войны и блокады, как у всех, переживших это время…
Эпилог
Одной из причин, побудивших меня записать мои детские воспоминания о страшном и героическом времени – блокаде Ленинграда, стало то, что выступления современных журналистов часто говорят о полном непонимании ими того душевного настроя и того патриотического подъема, который был свойственен ленинградцам, оказавшимся в окруженном врагами городе и не сдавшим его, часто ценой своей жизни…
Вспоминая блокаду, я до сих пор не могу понять, как мы выжили и как вообще можно было выжить в тех условиях. Среди тех, у кого в доме не было хоть каких-то съестных припасов, не выжил никто. Нас спас дачный сундучок, папины запасы столярного клея и мои обеды на военном корабле. И еще неугасаемая вера в победу, для выживания был необходим оптимизм, пессимисты погибали в первую очередь.
Я никогда не жалела и не жалею о том, что осталась в блокадном Ленинграде. Такой высокой духовности всего народа, как в то время, я уже не увижу никогда. Во многом это объяснялось тем, что в городе остались в основном его коренные жители, интеллигенция и рабочие высокой квалификации, которым было свойственно и хорошее воспитание, и петербургский стиль жизни. И это то, чего не понимают многие современные люди.
Кто-то, говоря о военном Ленинграде, сказал, что фактически это был огромный концентрационный лагерь. Но в таких лагерях содержались пленные – побежденные люди с травмированной этим психологией, а мы, находясь в ужасных бесчеловечных условиях, не только оставались свободными, но и стали победителями. И это чувство – я победитель – помогало мне и выжить, и просто пережить многие трудные или трагические периоды моей жизни.
Эпитафия
Друзья военного детства. Их уже нет.
Не позовут и не отзовутся. Покинули этот свет.
А дружба была проверена голодом и огнем.
Они отзывались немедленно
Хоть ночью, хоть пасмурным днем.
И все, что было с нами, стало, что было со мной.
А их воспоминанья камнем ушли на дно
Реки, кем-то названной Лета.
Ни отзвука. Ни ответа.
«Царскосельская газета» № 20 от 1 июня 2023 г.

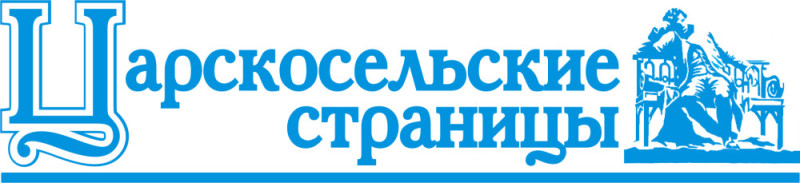







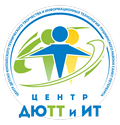
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.